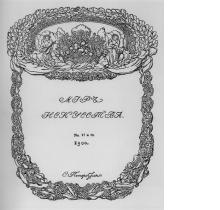Жизнь как эпоха / К 150-летию Сергея Дягилева
Выпуск №7-247/2022, Дата

Сергея Дягилева нередко называют первым продюсером, словно не замечая в истории ни охочих комедиантов, исподволь насаждавших рождественскими и пасхальными неделями свои игровые опусы по всея Руси, ни патриархов Станиславского и Немировича-Данченко, арендовавших у Якова Щукина помещение в саду «Эрмитаж» и открывших в 1898-м там Художественно-общедоступный - частный театр. В начале ХХI века на Щукинской сцене поселился ночной клуб, мудрено названный «Dяgilev proжект», сгорел - то ли по недосмотру, то ли по чьей-то воле, и уж тогда Дягилева стали вспоминать исключительно в учебных классах продюсерских факультетов театральных школ. Справедливости ради стоит сказать, что получше с памятью обстояло в Перми, где будущий властитель художественных дум Европы провел гимназические годы, и где, было, пытались присвоить местному аэропорту его имя, но оставили, как есть - Большое Савино. Зато в родовом особняке Дягилевых по улице Сибирской (там - гимназия) развернули экспозицию, посвященную вкладу семейства Дягилевых в Пермскую культуру, и открыли памятник работы Эрнста Неизвестного. А местная опера по инициативе режиссера Георгия Исаакяна основала «Дягилевский фестиваль» - он прижился, обрел известность и к традиционному именованию Перми как третьей балетной Мекки прибавилось слово «музыкальной».
Но дело увековечивания Сергея Дягилева в родном Отечестве заметно отстает от его почитания в мире: еще в начале 1960-х, например, имя Дягилева было присвоено одной из площадей рядом с Парижской Оперой: на сцене Дворца Гарнье труппа Дягилева выступала уже на второй год своей культурной экспансии: с 1910-го, и оттуда с легкостью прокладывала свои победительные пути дальше - в Лондон (1911-1914), США (1916), в итоге обосновалась в Монте-Карло, где ее с радостью приютил Принц Пьер де Полиньяк, и просуществовала там вплоть до 1929 года - года смерти своего владельца, последовавшей на 58 году жизни на Венецианском острове Лидо.
В советское время имя Дягилева особо не легендировалось, хотя и интересоваться его эпохой не воспрещали: как-никак символика и эмблематика русского искусства на Западе в ХХ веке во многом были связаны с его «Русскими сезонами» и «Русским балетом Дягилева» - так антрепризу стали именовать в Монако. В начале 1980-х в свет выходит книга Вадима Гаевского «Дивертисмент», где в главе «Лебедь и Фавн» автор рассматривает феномен «Сезонов» через три ключевые фигуры - Фокина, Нижинского и Дягилева, следом - двухтомник «Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве», в середине 1990-х - монография Израиля Нестьева «Дягилев и музыкальный театр ХХ века». Дальше векторы интереса к «первому лорду танца», открывшему Европе многообразие русского художественного мира (живопись, музыка, опера, балет), делятся на мемуаристику (в России, наконец, издают документальный роман Сержа Лифаря «Дягилев и с Дягилевым», позже - «Воспоминания» Матильды Кшесинской) и научно-исследовательскую работу («Дягилевские чтения» в Пермской художественной галерее, статьи и диссертации).
Дело Дягилева к 100-летию «Русских сезонов» просматривается в деталях, фигура и фактура его становятся все более четкими, почти осязаемыми, значение его вклада в историю искусства видится абсолютным.
Теперь, к 150-летию самого Сергея Павловича, можно длинным рядом исчислить его заслуги перед Отечеством и цивилизацией: белых пятен ни в биографии, ни в истории предприятия, просуществовавшего два десятка лет и получившего финальный топоним в Монте-Карло, кажется, не осталось. Сложнее - с образом - самой тонкой и неуловимой материей в области искусства. С образом того, кто твердо и самоуверенно менял русла искусства, перенаправлял потоки, влиял на течения. Сплошь и рядом можно прочесть, а еще совсем недавно - в прошлом столетии и на рубеже веков - и услышать от современников Дягилева и их потомков, что тот был личностью в высшей степени противоречивой, двойственной, непредсказуемой. Эстет и циник, энциклопедист и неофит, трудоголик и эпикуреец, новатор и ниспровергатель традиций, попавший из провинциального города в столичную университетскую среду, он про себя писал любимой мачехе Елене Валерьяновне: «Что касается до меня, то надо сказать опять-таки из наблюдений, что я, во-первых, большой шарлатан, хотя и с блеском, во-вторых, большой шармёр, в-третьих - большой нахал, в-четвертых, человек с большим количеством логики и малым количеством принципов и, в-пятых, кажется, бездарность; впрочем, если хочешь, я кажется нашел мое настоящее значение - меценатство. Все данные кроме денег - mais ça viendra (фр. «но это придет»)».
С этими характеристиками, составленными отважно и не лишенными ни позерства, ни самоиронии, Сергей Дягилев и бросался к осуществлению художественных идей, коими полнился воздух, безразличный к географическим границам. Логика шармёра работала безотказно, позволяя без особых трудов браться за прожекты, которые, кажется, только и ждали, когда ими, наконец, займутся. Фундамент будущего закладывался с неимоверной отвагой, какой не хватало другим, и другие становились пермскому небожителю соратниками, с готовностью возводившими здания на уготовленной им почве. Так родились объединение и журнал «Мир искусства», Ежегодники императорских театров, серии художественных выставок, назначенные познакомить «свою» аудиторию с западноевропейской живописью, а зарубежную - со «своими» мастерами.
Идея «взаимообмена», увенчавшаяся открытием вернисажа «Два века русского искусства и скульптуры» на Осеннем салоне в парижском Гран-Пале, где Дягилев в 12-ти залах разместил работы Михаила Врубеля, Александра Бенуа, Льва Бакста, Павла Кузнецова, Ильи Репина, Валентина Серова, Константина Сомова, Сергея Судейкина, Николая Сапунова, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова и других русских художников, и дала толчок к разворачиванию «меценатских» амбиций; очевидно, что там, наблюдая за благожелательностью французов, узревших в невиданной панораме русского искусства новое слово, он решил двинуться дальше и эту панораму расширить, сделать круговой, добавив к живописи, иконописи и ваянию оперу и балет, Шаляпина и Римского-Корсакова, Глазунова и Рахманинова, Павлову и Карсавину, Фокина и Нижинского - весь со-отечественный себе цвет, всю художественную «казну» императорского двора и императорских театров, с чиновными людьми которых на ровном месте рассорился, не смирив характера, не уступив принципов, в ничтожности коих сам и признавался. Рассорился, но - захотел поквитаться. В 8-м округе Парижа близ Елисейских полей мир русских художников он предъявлял как подлинный, беспримерный и бесценный «Мир искусства». Название журнала, еще недавно редактированного им самим в союзничестве с Александром Бенуа, годилось теперь здесь, в дворцовых залах, и наперед - залам театральным. Как и название Salon d'automne - Осенний салон, придуманное художниками-прогрессистами для своего оппозиционного сообщества в пику Парижским салонам - постоянной выставке Академии изящных искусств. Тогда, наверняка, и мелькнуло в голове: салон - сезон - русские сезоны...
На вернисажи, музыкальные вечера, оперу ему удавалось найти деньги, удалось найти и на балет. «Настоящее назначение - меценатство» всегда обеспечивалось сочувствующими его идеям «просвещенными театралами»: от государя и великих князей до равнодушных и вспыхивающих, как спичка, толстосумов, подпадающих под обаяние шармёра.
На сценах Théâtre du Châtelet и Grand Opéra он показал belle epoque русского балета и, не дав опомниться восторженным балетоманам, ее же и разрушил, открыв путь авангарду, а потом стал их дразнить, намеренно путая одно с другим, провоцировать на скандалы и одновременно увлекать, восхищать, потрясать содеянными опусами не только публику, но и музыкантов, художников, артистов. Привлек к сотворчеству Пабло Пикассо и Жана Кокто, Игоря Стравинского и Клода Дебюсси, Сергея Прокофьева и Эрика Сати, открывал имена, покорял монбланы, сорил деньгами и тряс пустым портмоне, заводил любимчиков и сводил с ними счеты, обещал и не платил гонорары, но чувствовал себя уже не шарлатаном, как на пороге грядущих открытий, но королем и властителем дум.
Вадим Гаевский напишет: «Дягилев был человеком совершенно определенного и рано определившегося стиля жизни и мысли. У него не было дома, его пристанищем был отель (хотя, разумеется, всегда первоклассный: этого требовали и снобизм, и привычка, и рекламные интересы дела). И все его начинания носили такой же временный, неукорененный в быт и в то же время демонстративный, воинственный, вызывающий характер. Он устраивал выставки отчасти для того, чтобы дискредитировать традиционный музей; он организовывал большие гастроли, которые подчеркивали старомодность функционирования стационарного театра. Не только в творчестве, но и в организации художественной жизни он утверждал новый стиль - стиль ХХ века».
«Староста декадентов», «Крестоносец красоты», «Лучезарное солнце - Людовик XIV», «Петр Великий», «Желтый дьявол на аренах европейских стран», «Монстр», «Маг и волшебник», «Чудище», «Страшный и обворожительный» - как только не называли Дягилева современники, коллеги и соглядатаи. Пять самохарактеристик, выведенных им задолго до блистательного вояжа по свету, после триумфов и побед могли показаться наивными и ничтожными: шарлатан, шармёр, беспринципный логист и нахал с призванием мецената... (Исключим - «бездарность».) Но лучше него про себя же самого никто ничего не придумал, потому что юношеским пером и незаскорузлой душой все черты были схвачены верно, каждую из них он довел до сияющего блеска и увеличенных значений.
Биограф Дягилева Шенг Схейен говорит о нем так: ««За всеми его внутренними конфликтами, легендарным шармом, чудовищными диктаторскими наклонностями, необыкновенной чуткостью к таланту, хитростью и вероломством, решительностью и провидческим даром скрывалась жажда приобщения к тайне творчества в его наивысшей форме. <...> Дягилев решил преобразить свою жизнь и эпоху».
Преобразитель и преобразователь Дягилев добился того, что целую эпоху в мире искусства стали называть его именем. Потому решительно все равно, кем он, в сущности, был: первым продюсером, импресарио или антрепренером. Он был человек-эпоха.
Фото из открытых источников
Фотогалерея